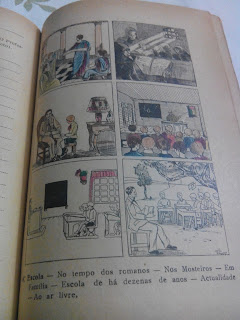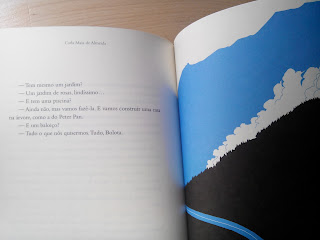Выполняю мое обещание, данное в начале этого года (тут) (что ж, лучше поздно, чем никогда!) и выкладываю мой перевод книги Алис Виейра "Глаза Анны Марты".
Замечания, комментарии, пожелания и все такое прочее, беньвиндуш в комментах! :)
Глаза Анны Марты.
Глава 1.
Меня подменили в роддоме. Как в кино, знаешь.
Ту, что должна была выйти с новорожденной в руках, отправили
ни с чем, а меня вручили этой, что явилась тем дождливым вечером в поисках
средства от головной боли и от страха сойти с ума.
Клянусь тебе: долгие годы я думала именно так.
У меня не было другого объяснения. И быть не могло.
Только так становилось понятно, почему она никогда не
произносила моего имени, почему все твердила, что слишком стара, чтоб быть чьей-то
матерью и почему мои шаги, даже самые легкие, вызывали у нее «приступы», как
говорил мой отец.
Я долго считала слово «приступ» научным термином для
обозначения головной боли или безумия.
— Я схожу с ума, — повторяла она.
— У тебя приступ, — шептал отец.
Только так становилось понятно, почему столько времени я
проводила за мраморным столом на кухне, слушая песни и сказки Леоноры,
перешептывания испанок в Гостиной, а она и не думала прийти взглянуть на мои
тетрадки пожурить за корявую букву или похвалить за удачную.
И только гораздо позже я выбросила эти мысли из головы.
Потому что это так тяжело — всю жизнь ждать свою настоящую маму.
Вот и Принц Грасиано столько не вынес, а ведь он был
принцем.
Леонор заполняла мою голову всякими ужасами о Призраке Сеньоры, что выходит из стен, лишь только стемнеет. А еще она любила повторять, что я
родилась в золотой колыбели.
Я помню, как целыми днями заглядывала в замочные скважины
запертых комнат — хотела обнаружить в одной из них эту колыбель из золота. Но
обзор был невелик, всякий раз было видно одно и то же. И я оставила попытки.
К тому же, на что бы мне сгодилась золотая колыбель?
Все равно я не смогла бы играть ею, как не могла играть с
фарфоровыми куклами, папиными подарками на Рождество и на дни рождения.
Однажды, задолго до того, как Леонор поведала мне об Ужасной
Катастрофе и Другом-Человеке, я попросила, чтоб мне подарили на Рождество
картонную куклу.
Картонную, можешь себе представить?
Тебе когда-нибудь хотелось картонную куклу?
Вряд ли. Только что, у школьных ворот, Леонор уверила меня,
что ты идеальная.
Но тогда я была совсем малышкой и еще не постигла, что
рожденный в золоте может желать только фарфоровых кукол.
Меня ругали, меня спрашивали, не издеваюсь ли я над
взрослыми людьми. В ту пятницу Дона Пепа, крайне разобиженная, явилась, чтоб
сказать, что это «ньедостатокь сочустьвия к чуствам бьедняков».
Я помню свое изумление, с которым я смотрела на нее (видишь,
каким несмышленышем я была — я еще удивлялась тому, что говорят испанки),
потому что я не хотела обижать ни «бьедних», ни «бохатих», ни даже срьедних,
никаких.
Я просто хотела картонную куклу. Такую огромную, не охватить
руками, с ярко раскрашенным личиком и красными губками, точь-в-точь, как такую,
что я видела у Лениты, дочки привратницы.
Но Ленита, дочь привратницы, не родилась в золотой колыбели,
каникулы она проводила в детских санаториях, оплаченных профсоюзом и носила
обноски ребят со всего квартала.
Все твердили мне, как гадко так врать, как гадко насмехаться
над теми, у кого нет таких прекрасных и таких дорогих кукол, как у меня.
И я сказала, я сказала: «Большое спасибо, папочка!», когда
он подарил мне еще одну куклу, и мигом поставила ее на полку с остальными, не
дожидаясь, пока Флавия напомнит мне, где куклам место.
Я помню, что тогда я была еще уверена, что Флавия не моя мама
и все искала настоящую маму, будто найти ее было вопросом жизни или смерти. Я
так ждала ее! Особенно, когда болела, в горячке, мне чудилось, как она
появляется в дверях, удивленно смотрит на пучок омелы, что вешала надо мной
Леонор, подходит к изголовью и кладет мне руку на лоб. Я почти слышала запах лаванды.
И кто знает, не было ли у нее под блузкой янтарных крыльев.
Я даже думала, представь себе!, что жить без мамы —
невозможно, невозможно жить без мамы, которая расскажет сказку, которая оправит
платьице, посадит на коленки и сочинит историю о счастливых принцессах.
И лишь позже я поняла, что и без всего этого можно прекрасно
прожить.
Однажды, признаюсь тебе, я пришла к мысли, что Кончинья —
моя настоящая мама. Я уверила себя, что ловила на себе ее странные взгляды. Я
даже додумалась до того, что это по ее настоянию Флавия время от времени
посылает за мной.
И одним пятничным вечером я попыталась забраться ей на
колени. Но, продолжая натянуто улыбаться, она легонько оттолкнула меня и
сказала сквозь зубы:
— Прьекрати, глупайя, помньешь мне платье!
И тут я поняла, что никакая она мне не мама. Когда настоящая
мама нашла своего принца Грасиано, она воскликнула:
— Сыночек, приди в мои объятия! Я узнала бы тебя, даже если
ты бы был в лохмотьях и жил в убогой лачуге!
И это после того, как она искала его по всем Семи Частям
Света!
(— Что еще за Семь Частей
Света, Леонор?
— Америка, Азия,
Африка, Европа, Север, Океан и Португалия Победоносная.
— И ты везде побывала?
— Я никогда не
выезжала из Португалии.
— Победоносной?
— Есть еще какая-то?
— Так откуда ты про
все знаешь?
— Оттуда. Так оно, или
нет, но меня так учили.
— Кто учил?
— Тот, кто все знал.
— Колдун племени?
— Моя бабушка. А это
одно и то же.)
Но Кончинья никогда не смогла бы быть такой, как мама принца
Грасиано. Хотя бы потому, что ей было ни за что не выговорить: «я узнала бы
тебя» и «убогая лачуга». Даже мне давалось это с трудом. И потом, несмотря на
свою испанскую тарабарщину, на «бьедних»
и на «ньедостатокь», Кончинья, как уверяла Леонор, родилась в Португалии, а
Дона Пепа вот уже 40 лет, как не ездила в Испанию, хотя бы в Бадахос, за
карамелью, как все мы.
Таким образом, ни одна, ни вторая не имели ни малейшего
понятия о Семи Частях Света.
Os olhos de Ana Marta
Capítulo 1
Trocaram-me de
mãe no hospital. Como nos filmes, sabes.
Mandaram embora,
de mãos a abanar, a que entrara na certeza de sair com um recém-nascido nos
braços, e entregaram-me à que chegara naquela tarde de chuva à procura de
remédio contra as dores de cabeça e contra o medo de enlouquecer.
Juro-te: durante muitos anos foi isto que eu pensei.
Não tinha outra
explicação. Não podia ter.
Só assim se
entendia que ela nunca dissesse o meu nome, que repetisse tantas vezes que
estava velha demais para ser mãe fosse de quem fosse, e que os meus passos, por
mais leves, lhe provocassem “crises”, como dizia o meu pai.
Durante muito
tempo também pensei que “crises” era o termo científico para designar as dores
de cabeça ou a loucura.
— Um dia destes
endoideço — repetia ela.
— São as tuas
crises — murmurava o pai.
Só assim se
entendia que eu passasse tantas horas debruçada sobre a mesa de mármore da
cozinha, ouvindo as cantigas e as histórias de Leonor, e o bichanar das
espanholas na Sala de Visitas, sem que ela se lembrasse de vir ter comigo,
olhar uma vez que fosse para os meus cadernos, ralhar-me por ter letra feia ou
elogiar-me, se a achasse bonita.
Só muito mais
tarde comecei a pensar de outra maneira. Até porque passar a vida toda à espera
de ver aparecer a nossa mãe verdadeira também cansa uma pessoa.
Nem o Príncipe
Graciano aguentara tanto — e era príncipe.
Leonor costumava
dizer que eu tinha nascido em berço de ouro, ao mesmo tempo que enchia a minha
cabeça de pavores com a Alminha-da-Senhora querendo sair das paredes assim que
anoitecia.
Lembro-me de ter
passado muitos dias a espreitar pelo buraco da fechadura para ver se descobria,
nalgum deles, o tal berço de ouro. Mas o ângulo de visão era fraco, e sempre o
mesmo. Acabei por desistir.
De resto, de que
me serviria um berço de ouro? De certeza não iria poder brincar com ele, como
acontecia com todas as bonecas de porcelana que o pai me dava no Natal e no dia
dos meus anos.
Uma vez, muito
antes de Leonor me ter falado na Grande Fatalidade e na Outra Pessoa, pedi que
me dessem, pelo Natal, um boneco de papelão.
De papelão,
imagina!
Alguma vez
desejaste muito ter um boneco de papelão?
Decerto que não.
Ainda há bocado, no nosso encontro à saída da escola, Leonor garantiu-me que tu
eras perfeita.
Mas eu era então
muito pequena e ainda não tinha aprendido que quem nasce em berço de ouro só
pode desejar bonecas de porcelana.
Todos ralharam
comigo, e perguntaram se eu estava a brincar com as pessoas crescidas. Nessa
sexta-feira D. Pepa chegou mesmo a dizer, muito ofendida, que era falta de
sentimientos hacer poco de los pobrecitos.
Lembro-me de ter
olhado para ela muito admirada (vê lá como eu era pequena: ainda me admirava
com aquilo que as espanholas diziam!), porque eu não queria hacer poco de los
pobrecitos, nem de los riquitos, nem sequer de los remediaditos, nem de
ninguém.
O que eu queria
era um boneco de papelão.
Daqueles enormes,
que transbordavam dos nossos braços, com a cara muito brilhante e os lábios
muito encarnados, igualzinho ao que eu vira ao colo da Lenita da porteira.
Mas a Lenita da
porteira não tinha nascido em berço de ouro, passava as férias na colónia
balnear em acampamentos pagos pela Junta de Freguesia, e vestia o que deixava
de servir aos miúdos do bairro.
Todos disseram
que era muito feio mentir, que era muito feio troçar de quem não podia ter
bonecas tão lindas e tão caras como eu tinha.
Acabei por me
calar, e depois disse “muito obrigada, pai” quando ele me deu mais uma — que
imediatamente coloquei na prateleira, ao lado das outras, mesmo antes de Flávia
me recordar que era lá o seu lugar.
Lembro-me que,
nesse tempo, eu ainda estava convencida de que Flávia não era a minha mãe
verdadeira, e ainda a procurava como se encontrá-la fosse uma questão de vida
ou de morte. Sobretudo no tempo das febres, esperava que um dia ela aparecesse
à porta do quarto, olhasse espantada para o ramo de visco que Leonor lá
pendurava, se chegasse à minha cabeceira e colocasse a mão na minha testa.
Havia de cheirar a alfazema. Quem sabe até se, debaixo da blusa, não teria as
asas de âmbar.
Ainda pensava,
imagina!, que não se podia sobreviver sem se ter uma mãe que nos contasse
histórias, que nos aconchegasse a roupa, nos sentasse ao colo e inventasse para
nós destinos certos de princesas felizes.
Só muito mais
tarde descobri que se podia perfeitamente viver sem essas coisas.
Um dia, vou-te
confessar, cheguei a pensar que Conchinha era a minha mãe verdadeira. Tive
mesmo a certeza de, por momentos, a ver sorrir para mim de maneira diferente.
Cheguei até a suspeitar que era por sua vontade que Flávia, às vezes, me
mandava chamar à Sala de Visitas.
Uma tarde de
sexta-feira tentei sentar-me ao seu colo. Mas, apesar de continuar com o
sorriso que mantinha sempre colado à boca, empurrou-me e disse entre dentes,
enquanto me torcia ligeiramente o braço:
— No hagas isso,
estúpida, que me machucas la falda!
Foi nesse momento
que eu tive a certeza de que ela não era a minha mãe verdadeira. A mãe
verdadeira do príncipe Graciano, ao encontrá-lo, exclamara:
— Filho, vem a
meus braços! Reconhecer-te-ia nem que estivesses coberto de andrajos e a viver
no mais humilde tugúrio!
E isto depois de
o ter procurado pelas Sete Partidas do Mundo!
(— Quais são as Sete Partidas do Mundo, Leonor?
— América, Ásia, África, Europa, Apolo, o Oceano e
Portugal Triunfante.
— Já lá foste?
—Nunca saí de Portugal
— Triunfante?
— Que outro haverá?
— Então como sabes?
— Sei. Verdade ou não, assim mo disseram.
— Quem?
— Quem tudo sabia.
— O feiticeiro da tribo?
— A minha avó. O que é a mesma coisa.)
Mas Conchinha
nunca poderia ser como a mãe do Príncipe Graciano. Para já, porque seria
completamente incapaz de pronunciar “reconhecer-te-ia” e “tugúrio”. Até a mim
me custava. E depois porque, segundo assegurava Leonor, apesar daquela
algarviada toda, e de los pobrecitos, e dos sentimientos, e das faldas,
Conchinha já nascera em Portugal, e D. Pepa há mais de 40 anos que não ia a
Espanha, nem sequer a Badajoz para comprar caramelos, como toda a gente.
Quer dizer: nem
uma nem outra deviam ter a mais pequena ideia do que seriam as Sete Partidas do
Mundo.